





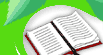









 |
Разговор о стихах. Эткинд Е.Г. Глава 1.
Автор: Эткинд Е.Г. (etkind@vers.al.ru)Дата публикации: 29/05/2006
Категория: Наука
Глава первая
СЛОВО В СТИХЕ
В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт.
Н. Гоголь О Пушкине.
У ПОЭЗИИ ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге.
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На черный пень? Спроси его
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Кик месяц, любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.
Эти стихи, которые Пушкин написал в 1832 году и включил в незавершенную поэму "Езерский" (а позднее и несколько изменив - в повесть "Египетские ночи"),- о чем они? Можно ли рассказать их содержание прозой? Попробуем.
Ветер, рассуждает Пушкин, нужен парусному судну, которое не может сдвинуться с места; между тем ветер производит неразумную работу: он крутится в овраге, поднимая клубы пыли и сухих листьев. Величавый орел, царь птиц, должен бы понимать, что ему по чину - сесть на вершину горы или на высокую крепостную башню, а он зачем-то садится на старый уродливый пень. Красавице Дездемоне полюбить бы такого же, как она, аристократа, юного венецианца - она же отдает свою любовь мавру Отелло, безобразному "арапу". Таков и поэт: он творит свое искус-ство, не руководствуясь ни логикой, ни целесообразностью, и воспевает то, что подсказывает ему прихоть; поэтическое творчество не подчиняется "условиям", то есть разумным законам.
Хорошо ли я пересказал эти стихи? Нет, очень скверно. Зачем мне в прозаическом рассуждении эти странные, на-удачу выхваченные примеры с ветром, орлом, Дездемоной? К тому же они ведь и не слишком связаны друг с другом. Ветер, поднимающий пыль, вместо того чтобы дуть в пару-са, действует просто бесполезно. Орел, спускающийся на старый пень, роняет свое достоинство и забывает о царст-венном сане и, значит, действует неразумно. Дездемона, по-любив мавра, уступает порыву чувств, страсти,- она дейст-вует, с обывательской точки зрения, легкомысленно. Всё это разные поступки. Наконец, Дездемона - существо мысля-щее, она способна на сознательный выбор; орел - живое существо, значит, и он может выбирать, хотя и не сознает этого; ветер же... Ветер - стихия, ему не свойственно чувствовать, желать, выбирать. Сопоставление в одном ряду столь разных явлений нелепо, вот почему в прозаическом изложении оно производит впечатление довольно-таки дикое. Значит, излагая пушкинскую мысль вне его стихов, надо было бы сказать примерно вот что.
И в природе, и в обществе многое происходит случайно: стихии, живые существа, да и люди не подчиняются зако-нам логики. Любовь женщины подобна слепой, неразумной стихии, у нее свои, особые законы, которые нельзя пере-плести на язык рассудка. Творчество тоже стихийно: поэт воспевает вовсе не то, что принято считать величавым или прекрасным, а то, к чему его влечет вдохновение, не под-чиняющееся расчету. Именно в этом ценность художествен-ного творчества: "Гордись,- восклицает Пушкин, - таков и ты, поэт..." Значит, сопричастность неразумной природ-ной стихии и делает человека поэтом.
Приведенное прозаическое рассуждение, кажется, пра-вильно передает идею Пушкина. Но как же оно бедно" скуч-но, даже банально по сравнению с тем, что сказал Пушкин в поразительных по энергии, глубине, содержательности четырнадцати строках!
Конечно, ветер сам по себе здесь не имеет значения: ведь речь идет о стихиях природы вообще, и можно было в качестве примера дать и море, и огонь, и воду ручья - воду, которая, скажем, вместо того чтобы крутить жернова мельницы, несет бесполезные щепки. В прозаическом пере-сказе мы просто и отвлеченно сказали: "Стихии... Не под-чиняются законам логики". Верно это? Верно. Но Пушкин придал избранному им среди всех стихий ветру такую жизненность, что мы видим и слышим, как он "крутится в овраге, подъемлет лист и пыль несет". Пушкин сообщил ветру неповторимую, самостоятельную жизнь. С точки зрения отвлеченного рассуждения, важно ли, что ветер крутится именно в овраге, а не дует в поле, или над дорогой, или в лесу? Что он поднимает листья и пыль, а не, скажем, срывает крыши с домов или ломает ветки сосен? А как точ-но нарисован корабль "в недвижной влаге"!
Пушкин соединил рассуждение и образ, вернее, он воплотил рассуждение в образе. В стихотворении ветер оду-шевлен, его порывы названы дыханием, а про его действия можно спросить, как про действия человека: "Зачем?.." Но одушевлен и корабль - он "ждет", и ждет "жадно". Перед нами развернута драма, в которой участвуют два персонажа: своевольный ветер, отдающийся безотчетной прихоти, и обманутый им, скованный неподвижностью корабль. То же видим и дальше. Орел дан в стихотворении необыкновенно точно, эпитеты "тяжел и страшен" создают живой его облик; да и пень снабжен конкретной характерис-тикой: пень- "черный". Зачем орла влечет к черному, а значит - прогнившему или сгоревшему, безобразному пню? "Спроси его",- говорит Пушкин, может быть он тебе и объяснит? Но нет, объяснить он не сможет, и не сможет ничего сказать Дездемона, которая любит мавра, "как ме-сяц любят ночи мглу". Месяц, влюбленный в ночь,- это, конечно, сравнение, но не только и не просто сравнение. Этот новый образ как бы сводит в стихотворение всю природу со свойственными ей контрастами и внешней неразум-ностью, в ее самом общем и самом высоком воплощении: стихия ветра, лунный свет, ночная мгла, царственный орел, горные хребты, любящая женщина... Да и поэзия дана здесь в ее наивысшем выражении - Шекспир, трагедия "Отелло". Вот чему равен поэт своей "неразумностью". Вот что такое поэзия.
Приведенная строфа объясняет читателю поэмы "Езерский", почему автор избрал себе в герои жалкого коллежского регистратора Евгения Езерского, а не какого-нибудь знатного героя. Пушкин предвидит насмешливые возраже-ния и попреки критики, которая ему скажет,
Что лучше, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет,
Что нет, к тому же, перевода
Прямым героям; что они
Совсем не чудо в наши дни...
Но поэзия свободна, как свободны ветер, орел и сердце девы. Она не знает сословных предвзятостей. Поэзия подчинена совсем иным законам, чем вся прочая жизнь. Пуш-кин продолжает в следующей, XIV строфе, обращаясь к поэту:
Исполнен мыслями златыми,
Не понимаемый никем,
Перед распятьями земными
Проходить ты, уныл и нем
С толпой не делишь ты ни гнева,
Ни нужд, ни хохота, ни рева,
Ни удивленья, ни труда
Глупец кричит: куда?
Куда? Дорога здесь
Но ты не слышишь.
Идешь, куда тебя влекут
Метанья тайные; твой труд
Тебе награда; им ты дышишь,
А плод его бросаешь ты
Толпе, рабыне суеты.
Все это куда значительнее, чем выбор героя, чем защита Евгения Езерского от нападок критиков. Дело не в ка-жущейся надменности Пушкина, не в его презрении к чи-тателям, а в том, что просто у поэзии иные пути, чем у общепонятной житейской прозы. Глупцы руководятся здра-вым смыслом, они думают, что всё знают. "Дорога здесь..." - самоуверенно кричат они, но поэту с ними не по дороге, ибо он "исполнен мыслями златыми, не понимаемый никем...". В самом деле, поймут ли эти глупцы, привыкшие думать, что "красота и безобразность разделены чертой одной" (строфа XII), поймут ли они, что означает вопрос:
Зачем крутится ветр в овраге...-
Где нелепым кажется уже слово "зачем"? С их точки зрения, ветер (а не "ветр") крутится, потому что крутится. "Зачем" - можно спрашивать о человеке, а не о ветре.
В поэзии действуют другие измерения, другая логика. Прежде всего она опирается на целостное понимание и вос-приятие мира, в котором равны друг другу лунное сияние и любовь Дездемоны, ветер и орел.
"Мысли златые" - это мысли поэта, они темны для не-посвященных. У "мечтаний тайных" свой язык, его нужно уметь понимать. Он, увы, недоступен "глупцам", к которым Пушкин обращается со словами:
Скажите: экой вздор, иль bravo, Иль не скажите ничего...
ТВОРЧЕСТВО - ЖИЗНЬ
Язык этот и в самом деле другой, не тот, обиходный, к которому мы привыкли. Все, казалось бы, такое же, и все, однако, совсем другое: слова, соединения слов, фразы, синтаксические построения... Вроде как бы все совпадает, но это лишь внешнее и обманчивое впечатление.
У Александра Блока есть стихотворение "Усталость" (1907):
Кому назначен темный жребий,
Над тем не властен хоровод
Он, как звезда, утонет в небе,
И новая звезда взойдет
И краток путь средь долгой ночи,
Друзья, близка ночная твердь!
И даже рифмы нет короче
Глухой, крылатой рифмы: смерть,
И есть ланит живая алостъ,
Печаль свиданий и разлук ..
Но есть паденье, и усталость,
И торжество предсмертных мук.
Все слова, составляющие это трагическое стихотворение, понятны. Мы знаем эти слова: жребий, хоровод, звезда, ночь, рифма, смерть, печаль, свиданья, разлуки, паденье, усталость, торжество, муки. Но, зная их, понимая каждое из них в отдельности и соединив их по законам обиходной речи, мы не уловим смысла вещи. Нам привычна конструк-ция с противительным союзом "но", однако здесь этот союз играет особую роль: "И есть ланит живая алость... Но есть паденье..." Почему "но"? Почему такое странное противо-поставление "и есть..." - "но есть..."? И почему в первой строфе противопоставлены столь разные понятия, как "жребий" и "хоровод"? Почему во второй строфе внезапно го-ворится о рифме "смерть", которая названа самой копот-кой, "глухой, крылатой"? Почему после строки о кратком пути "средь долгой ночи" и другой - о том, что "близка ночная твердь", вдруг переход к рифме, причем этот переход дан как бы логично, а на самом деле непонятным "и даже..."? Как же можно соединить в одной фразе долгую ночь и звездное небо ("ночная твердь") с рассуждением о свой-ствах рифмы? Ночь и небо относятся к миру природы, а рифма - внешняя примета стихотворного текста. Как же так?
Нельзя ничего понять в этом стихотворении, если по-дойти к ному с прозаической меркой: оно рассыплется, ста-нет пустым набором слов. А если прочитать его иначе?
Для этого надо пройти мимо первичного значения слоя и заглянуть в них поглубже. "Жребий" - это, конечно, судьба, но "темный жребий" - это смерть. "Хоровод" - это пестрая, многообразная, многоцветная жизнь. Тот, кто обречен смерти, уже отрешен от жизни - таков внутрен-ний смысл первой строфы. "Звезда... Утонет в небе" - это комета, путь которой краток и стремителен; такова жизнь, судьба человека, подобного звезде,- на место ушедшего человека придет другой, "новая звезда взойдет". И далее варьируется это противопоставление жизни и небытия. Жизнь - это краткий "путь средь долгой ночи", это "ланит живая алость, печаль свиданий и разлук". Небытие смерти - это "ночная твердь", и к ней ведут "паденье, и усталость, и торжество предсмертных мук".
Все ли теперь сказано о смысле стихотворения? О нет, далеко не все. Это, в сущности, только начало его постиже-ния, только указание пути, по которому надо двигаться, чтобы понять замысел поэта.
Стихотворение Блока таит еще такую идею: жизнь и смерть неразрывно связаны между собой, одно без другого не существует. "И краток путь средь долгой ночи..." Этот стих можно прочесть и так: жизнь человека мгновенна, смерть же бесконечна,- путь жизни проходит посреди дол-гой ночи небытия. Да, но и смерть человека относится к жизни, как часть ее, мгновенный ее конец, поэтому все-таки и смерть - это жизнь; оттого и сказано: "И даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: смерть". Жизнь - как часть небытия и в то же время противоположность ему. Смерть - как часть жизни и в то же время противопо-ложность ей.
Все ли это? Далеко не все. Последняя строфа говорит о нерешенности спора, о борьбе духа за бытие. Утверждени-ем жизни звучат строки о счастье и горе любви: "И есть ланит живая алость, печаль свиданий и разлук..." И горест-ной капитуляцией перед смертью продиктованы заключи-тельные стихи: "Но есть паденье, и усталость, и торжество предсмертных мук". "Торжество" здесь очень важное сло-во, торжество - это победа.
В этом стихотворении о торжестве смерти нет, однако, безнадежности: оно ведь и начато с того, что "новая звезда взойдет", сама жизнь бессмертна. Усталость - это судьба одного, и этот один "утонет в небе", но ведь останется небо, останется и любовь, "печаль свиданий и разлук".
Чтобы прочесть эти двенадцать строк Блока, надо прежде всего понять систему стихотворения, строй поэтической мысли автора. Понять, что в этой вещи нет никаких конкретных признаков реальности, что хоровод - это не хоровод, звезда - не звезда, небо - не небо, что путь, ночь, ночная твердь, алость ланит, паденье - все эти слова приобретают в блоковской поэзии особый смысл. И на фоне этих отвлеченностей резко выделяется одно-единственное точное, употребленное почти в общем для всех смысле и вполне вещественное слово - "рифма". Слово это, дважды повторенное, снабжено тремя эпитетами, еще и подчеркивающими его материальную определенность: "И даже рифмы нет короче глухой, крылатой рифмы: смерть". Поставив в центр стихотворения слово "рифма" и отождествив его со словом "смерть", Блок как бы обнажил условность, как бы сказал читателю: да, я пишу стихи и подбираю рифмы, пишу стихи о смерти; я стихотворец, и речь идет не о чьей-нибудь смерти вообще, а о смерти поэта, моей смерти. Оказывается, что, кроме реальности "рифма", есть только еще одна реальность: "смерть". Но Блок сказал и более того: он снял различие между писанием стихов и жизнью. Нет искусственной литературы, отдельной от человеческого существования: творчество - это и есть жизнь. Процесс писания стихов равносилен процессу существования.
Ссылки по теме:


